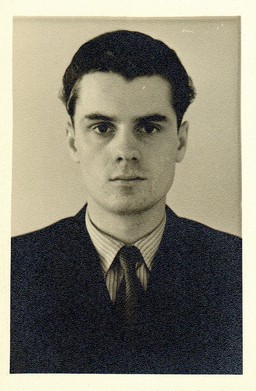Раиса Ивановна Курятина

Родилась я в Смоленске в 1937 году. Отец мой был в воинской части электриком. Помню, что моя мама перед войной работала на фабрике. Порядки были очень строгие – тогда нельзя было опаздывать на работу. Однажды, когда мама проспала, она в халате и тапочках пробежала через проходную и успела в последнюю минуту. Братьев и сестер у меня не было. До этого она родила сына Витю, который в три года умер от менингита. Потом второй ребенок, неназванный, умирает в роддоме от пневмонии. Мама и сама чуть не умирает, её там вовремя спасают. И потом родилась я.
Когда началась война, я, конечно, не помню. Мне еще не было четырех лет. Уже потом я узнала: Смоленск оккупировали с 16 июля 1941 г. по 16 сентября 1943 г.
В день начала оккупации я находилась с бабушкой в деревне (как и всегда в летнее время). Там же жил дядя, мамин брат, он работал в школе директором и учителем математики. Мама потом говорила мне, что они на фабрике слышали орудийные выстрелы и все равно находились на рабочих местах до тех, пор, пока им не разрешили уйти домой и вывезти семьи. Мама прибежала, взяла вещи, документы и доехала каким-то чудом (в народе ведь уже началась паника) до деревни, где были мы. Приехала, а мы уже сидим на повозках с минимальным набором вещей. В общем, она нас еле-еле застала.
Мы недолго отступали, недалеко продвинулись. Помню, как ночевали в какой-то школе на соломе вповалку. И в эту ночь в деревню пришли немцы. Они с фонарями искали партизан. Тех, кто жил поблизости (моего дядю и других) отправили домой. А нас куда-то погнали. С нами были еще и родственники жены моего дяди. Сколько точно мы ехали, я не помню, но мама говорила, что это был долгий период времени. Я помню название «Буйничи» – это где-то под Могилевом, т. е. мы были на территории Белоруссии. Всех собирали, выводили под конвоем в поле, работали там весь день и вечером возвращались. Мама тоже с ними работала. На неё женщины смотрели косо: как это – беременная, а муж уже давно на фронте? А мама на самом деле не носила ребенка, она просто была отекшей от голода. Всё, что было съедобного, она скармливала мне, я даже голода не чувствовала. Как-то возвращается она с поля и несет брюкву. Немец наставляет на нее автомат. Она ему показывает, что это для еды. Он пропускает её. Вечером она начинала есть эту брюкву и засыпала с ней в руках.
Нам отдавали перегон – то, что оставалось после переработки молока. Мама отправляла меня за перегоном. Человеку, который его давал, нравилось, как я спрашивала – вежливо, с «реверансами». И он мог гонять меня несколько раз подряд, хотя перегон у него был – чтобы я несколько раз спросила. И пришли как-то два немца (мне кажется, они разговаривали на русском). Они на меня обернулись, начали расспрашивать, в том числе и про папу: «А папа где?» А я в ответ: «Фрицев бьет!» Мне ничего после этого не сделали, хотя могли даже и убить. Дети есть дети, а среди немцев тоже были хорошие люди.
Какое-то время прожили мы в этом населенном пункте. Потом нас погнали дальше, в Германию. Вначале были предложения работы и заманивание, потому что были такие эпизоды, что люди сами уезжали. Наобещают им что-то, красиво распишут, и они в надежде на хорошую жизнь уезжают.
Упрашивали и нас. В первое время, когда приходил немец, мама меня укладывала, и мне надо было делать вид, что я больна. Дважды мы таким образом спасались. А потом был случай, когда партизаны убили какого-то немецкого офицера. Тогда нас всех загнали в болото. По болоту, я помню, стреляли. И отправили в Германию насильно.
Привезли нас в г. Инстенбург (название я узнала, конечно, потом) в Восточной Пруссии. Были мы на бирже труда. Помню, как мы стояли кругом, а в круге ходили люди и выбирали из нас себе работников. Из наших родственников с нами была молодая женщина (примерно 20 лет). Она хорошо знала немецкий язык. Она присмотрелась к «работодателям», и ей один человек показался добрым. И когда до нас дошла очередь, она попросила его взять нас всех с детьми. Многих детей там отбрасывали в сторону сразу, как нерабочую силу, их могли отправить в лагерь. Он нас всех и взял.
Фамилия его была Либке. Он жил в местечке Адамсроу (?) Привезли нас туда. Я хорошо помню, что мы жили сначала где-то на окраине, вместе с немецкой семьей (половина дома – немцы, на другой половине – мы). У их детей была деревянная обувь – видно, они берегли свои ботинки. Потом нас взяли в саму усадьбу. Маме дали комнатку (с проверкой, похоже – русских ведь считали плохими – свиньями, ворами). Там жила полька Мила, она приехала раньше нас. Её переместили в другое место, а нас – в её комнату. Маму решили проверить на честность и бросили ключи от шкафа. Мама говорит: «Раечка, возьми ключики и отнеси тете Миле. Скажи, что она их уронила». Так они и поняли, что мы – честная семья. Потом Мила подарила маме теплую юбку из плотной ткани. Носить ведь было нечего, нам никто не покупал одежду. А мама моя была рукодельницей, она и готовила прекрасно, и шила, и вязала – всё умела делать руками. И вот она скроила из этой юбки пальто для меня. Пальтишко было на загляденье – даже из дома все высыпали на него посмотреть. «Это вы сами сделали?» - с удивлением спрашивали они. Для них было чем-то необычным, что русская женщина может так шить.
Так хорошо сложились обстоятельства, что мы попали именно к этому хозяину, что он оказался хорошим человеком. А сын его был эсэссовцем (это мне потом рассказала мама). Когда он приезжал, все прятались. Вообще много было эпизодов, когда мы могли погибнуть. Сам же помещик был уже пожилым человеком и весьма наблюдательным. Однажды он спрашивает у мамы: «Фрау Варвара, какой он – ваш Сталин?» А мама находится в Германии, среди врагов. Начнешь хвалить – пристрелят. Она дипломатически отвечает: «Вы знаете, сейчас война. Но когда мы жили в России, мы считали, что у нас очень хороший вождь, лучше всех, наверное. Что сейчас там творится, я не знаю».
Так мы там и жили. С детей ничего не требовали. Родители где-то работали. Немецкий язык мы изучили очень быстро (наверное, дети все воспринимают быстрее взрослых). Родителям это было выгодно. Вот придет мама с работы и спросит меня: где была, кого видела? А я ей все рассказываю. Тогда ведь часто могли устраивать проверки, а я всю информацию могла узнать заранее. Немцы разговаривали друг с другом, а на детей, возящихся рядом, не обращали внимания. Но мы все слышали и постепенно учились понимать.
Наш хозяин был бауэром – помещиком, ему нужно было платить налог государству. Каждое утро в усадьбу приезжала большая телега на рессорах и забирала все молоко, такие у них были законы. Немецкая семья имела всего три литра молока.
Жили мы там довольно долгое время. Мама работала там, куда её отправляли – на птичнике, в огороде. Над нами никто не стоял, конвоев не было. В них не было смысла - бежать ведь все равно некуда.
Время от времени мы с мамой ходили в соседнюю усадьбу и общались с русскими, которые там жили. У нас был свой «клан»: полька Мила, белорусы, русские…
Помню такой эпизод: шел уже 1945 год, и в небе стали часто летать самолеты. Я играла на улице с друзьями Юстасом, Руди и другими. У нас, русских, конечно, радость – свои! Но на улицу мы потом не выходили три дня – нас били немецкие дети. Мы всё-таки были их врагами…
В это время уже все чувствовали приближение советских войск. Немцы начинали потихоньку собираться, им, скорее всего, были даны указания готовиться к отступлению. Мама моя вела себя как-то не так, и бауэр это заметил. Как-то он сказал ей: «Фрау Варвара, я вижу: вы смотрите, где бы вам спрятаться и дождаться своих. Я вас понимаю, но советую не делать этого. Когда наши будут отступать, они уничтожат все. Здесь ничего не останется, вы не спасетесь. Поэтому, если придется отступать нам, и вы отступайте с нами». Нам пришлось сесть на повозки. Немцы грузили все – и домашний скарб, и продукты. Выехали мы на дорогу, пропустили немецкие войска и поехали дальше. Проехали мы не так много и оказались на поле боя. Мама потом говорила – хорошо, что не летали самолеты. Тогда уже никто бы не выжил. Снаряды летают, кругом дым. Мама лежит и думает: дай переползу в другое место. А туда как раз падает снаряд. Я, маленькая, не понимаю, почему мама лежит и ничего не делает, кричу ей: «Мама, давай переползем туда, я не хочу умирать!» Так мы и остались на месте. Один снаряд пролетел прямо между нами, и человек спереди сразу погиб.
Через какое-то время бомбежка закончилась. Отстали мы от немецких подвод, собрались группой примерно в двадцать человек с разных подвод – разных национальностей, перешли в балку. Вечереет. А что нам делать – не знаем. Мама предположила, что рядом должна быть русская разведка. И действительно, вскоре она увидела (мама была очень дальнозоркой) человека в маскировочном халате, валенках и главное – с красной звездочкой на шапке. Это были советские войска! Они, конечно, не знали, кто занял балку, и могли нас убить. Мама всем сказала, чтобы меня к себе кто-нибудь взял, если с ней что-то случится. Вышла она с поднятыми руками к нашим – и всё обошлось. Отвели они нас к себе, на русскую сторону. Там уже были назначены пункты сбора для отправки домой всех угнанных.
Возвращались мы в поезде. Есть было нечего. На остановках мы просили милостыню. Мама тогда никуда меня не отпускала, все время держала при себе – и правильно делала. Тогда по поездам ходили люди и покупали детей. Могли расписать все в красках: мол, вы приедете в родной город, он разрушен, а у нас ваш ребенок будет сыт, одет, обучен в школе. Меня тоже хотели купить, но мама, конечно, никому меня не отдала. А какая-то бабушка отдала одного из своих внуков.
Приехали мы в Смоленск в феврале-марте 1945 г. Он был практически весь разрушен, в том числе и наш дом. Да и вернуться было тогда не так просто: у всех спрашивали, как они попали в Германию, как смогли вернуться.
Кстати: уже потом, после войны, я встретила знакомую, которая была малолетним узником. Она мне и сказала, что нужно оформлять документы. Посоветовали мне обратиться в Смоленск; мои родственники, живущие там, взяли документ. В нем было написано: «в списках насильно угнанных в немецкое рабство из Смоленска значится Митрофанова Раиса Ивановна 1937 года рождения». То есть в нашем государстве всё было известно, в том числе и об угнанных в Германию. Ведь некоторые поддавались на уговоры и уезжали практически добровольно.
При этом удивительно: маме за неделю оформили паспорт и дали работу! Её обязанностью было в столовой мясокомбината кормить рабочих. Работникам там продавали дешевые продукты (вынести было ничего нельзя). Но поначалу мне казались очень вкусными лепешки из лебеды, продукты у нас ведь появились не сразу. Проблемы были с мукой, сахаром – за ними приходилось стоять в очередях.
Где мы жили? Вот представьте: стоит разрушенный дом. Крыши у него нет, есть стены и лестницы. Люди жили под лестницами. Мы жили в самом углу-отсеке, над которым была крыша. Потом, когда уже отец вернулся с фронта, мы сколотили небольшую пристройку. Там была маленькая комнатка с цементным полом. У двери стояла скамеечка, на ней – два ведра с водой. Утром мы просыпались и пробивали лед, чтобы добраться до воды. Две кровати – родительская и моя. Потом, когда родился брат Саша, ему тоже поставили кроватку. И мы жили там несколько лет, пока Смоленск отстраивался.
Продуктов приходилось ждать в очереди ночами. Мама всю ночь отстоит, утром придет и разбудит нас, чтобы всем вместе пойти. Тогда продуктов дадут всем. Отец по очередям не ходил, он работал. Чтобы было мясо, мама выращивала поросят. За определенную плату на мясокомбинате могли закоптить поросенка. Как это было вкусно – копченый окорок! Родители куда-то организованно ездили сажать картофель, осенью привозили его домой. Хранили мы картошку под кроватями. В чуланчике у мамы всегда были соленые огурцы и капуста, так что мы уже не голодали.
Я уже ходила в школу в это время. У нас в классе были очень бедные дети, семьи которых не имели совсем ничего. Учительница иногда просила принести еду – у кого что есть. И я приносила в школу картошку одному мальчику. Уже после всего этого, когда он вырос, встретил меня в Смоленске и вспомнил.
В школе не было бумаги, писать было не на чем. Там даже пытались нас кормить. Все занимались спортом. У меня был первый разряд по лыжному спорту, я участвовала в гонках. Катались на коньках в парке. К восстановлению города школьников не привлекали – может быть, только старшеклассников. Зато мы собирали картошку осенью (и когда я уже училась в институте, тоже).Несмотря на сложную жизнь, мне никогда не хотелось обратно, в Германию. У детей тогда был патриотизм еще выше, чем у взрослых.
Отец благополучно вернулся с фронта, пройдя всю войну. Потом, когда мы приехали, узнали, что бабушка умерла во время войны. Дядя выжил. Про нашу семью они, конечно, ничего не знали. Встретились все выжившие уже после войны. Мамина двоюродная сестра жила под городом (5-7 км), её дочь – моя троюродная сестра – привозила нам что-то из еды, когда ездила в Смоленск. И моя мама отправляла с ней сало. А мамин двоюродный брат жил в Нижнем Новгороде, она и туда отправляла продукты, какие были. Две маминых племянницы (сестра ее умерла рано от рака желудка) жили в детском доме. Мама им шила одежду из материала, который удавалось достать.
В то время во дворах на пятачках были танцы, и девчонки, окончившие школу, уже танцевали там. Но во время подготовки к вступительным экзаменам я туда не ходила. Я очень хотела стать врачом, и целенаправленно шла к этому.В семье у нас многие были педагогами, но уже в 6-7 классах я знала, что буду медиком. Мне в стенгазетах всегда пририсовывали шапочку с красным крестом. И после школы я поступила с первого раза на медицинский факультет.
В институте я познакомилась со своим будущим мужем. Он был из Брянска. Он окончил медицинское училище с отличием и стал фельдшером, а после поступил в институт. А до этого в школе в меня был влюблен одноклассник Миша Борисов. Я даже этого не знала. Он пошел за мной и тоже поступил в медицинский. И вдруг какой-то другой уводит меня – это было для него потрясением. Но Миша все равно питал надежду: вдруг у нас не сложится? Долго он не женился; потом женился, но неудачно.
Муж мой врачом на самом деле быть не хотел, а хотел быть художником, он очень хорошо рисовал – самоучка. У меня висит дома три картины. Четвертая картина при переезде была утеряна. Это был мой портрет: я в красивой позе сижу в комнате, в общежитии. Какой-то студент снял меня на фотоаппарат, а с этой фотокарточки уже был нарисован портрет. Есть картина маслом на холсте – её мне подарили на новый 1961 год – изображен букет цветов. Еще есть Медный всадник и Тайловская башня. Хотя и было мало времени на рисование, одна работа.
В Печоры мы приехали по распределению в 1961 году. Скорая помощь была на ул. Каштановой. Рядом поселили и нас, прожили мы там где-то полгода. Потом дали квартиру на ул. Ленина, 16, на втором этаже с подселением к Ольге Александровне Рябининой, где мы жили до 1979 г. Потом переехали в дом, в котором живем сейчас.
В 1967 году умерла мама. Ей было 58 лет.
После смерти матери (здоровье у нее было подорвано) брат Саша поступил в университет на техническую специальность. И у нас все было поставлено на то, чтобы его контролировать. Мы с мужем в отпуске вместе с детьми ездили в Смоленск. Приезжали к нему, я убиралась в доме, мыла окна, стирала. Оплачивала квартиру на полгода. После его женитьбы мы тоже тесно общались.
Печорская больница, где мы работали, была большой, одних терапевтических коек было шестьдесят. Заведующим был Акимов. Появилась врач Мурометс (потом она уехала в Эстонию). В 1974 году Акимов отказался от места заведующего. Это место стали прочить мне. Поэтому последующие четыре месяца я жила в Ленинграде, учась на курсах. У нас уже были маленькие дети, они оставались с няней, но я периодически приезжала – тогда ведь все было доступно. Можно было ночью сесть на поезд, а утром уже оказаться на лекции.
После окончания курсов мне сразу дали должность заведующей больницей. В итоге с 1974 по 2016 год я работала там. Уходя в 2016 году в отпуск, я заявила о своем желании освободить место заведующей. У меня за годы работы не было ни одних спокойных новогодних выходных. Сразу после нового года нужно было составлять годовой отчет за весь район, суммировать все данные. В последнее время мы ездим в наш областной «Белый дом» с паспортами, чтобы получить пропуск. До этого мы сдавали отчеты в Псковской областной больнице, был заведующий Василий Иванович Полушин. Мы с ним и сейчас встречаемся, хорошо общаемся.
По всему Печорскому району сеть здравоохранения работала хорошо. Валентина Васильевна Ульянова работала в Новоизборской больнице, Родичева – в Старом Изборске, Лавры работали в полном объеме (хорошим врачом был Камалов). Тогда не было таких жестких рамок, как сейчас. Например, среднее пребывание больного в больнице – 10 дней. А 10 дней иногда мало (если большое воспаление легких или еще более тяжелое заболевание). Поэтому мы, конечно, придерживаемся. А раньше могли быть послабления. Если пришла в больницу старушка, а ей нечем топить дома, то мы чисто по-человечески можем и два месяца её продержать.
Муж мой никогда не ругался, не пил и не курил. Он работал и в поликлинике, и в больнице, на износ. Когда у него случился инфаркт миокарда, я даже не знаю, как его спасла. Ему стало плохо уже на территории больницы, он ухватился за дерево. Дежурная врач с девочкой из «Скорой» довели его до отделения. Положили его в реанимацию. А я в это время была на пятиминутке. Пришла, раздала всем указания. Меня потом спрашивали: как ты могла так спокойно это делать? Расплакалась я уже потом. После нашей больницы мы поехали в Псков к кардиологу. Там сказали: 10 месяцев он должен быть на больничном. Прошло полгода, и у нас в больнице не оказалось хирургов. Встал вопрос о закрытии отделения. А он говорит: я не могу допустить такого, это моя жизнь. У нас есть хорошо обученный персонал, неужели всех распускать? И он выходит на работу, и работает и в поликлинике, и в стационаре. Это тоже сыграло свою роль, подорвало ему здоровье.В итоге он умер от инфаркта.
Брата Саши тоже уже нет, он умер от инсульта.
У меня есть дочери. Старшая, Галя, сейчас живет в Тосно. Она поступала в Псковское музыкальное училище и в первый раз не прошла. Лена уговаривала ее окончить 10 класс и после поступить в медицинский. Но на второй раз она прошла. После учебы она работала и ездила брать уроки в Ленинград, чтобы поступить в консерваторию. Приехала поступать в Петрозаводск. Прослушали ее, сказали: игра прекрасная, обратите внимание на то-то и то-то. Там брали только своих. В итоге приехали мы с ней в Ленинград, там был институт им. Н. Крупской. Взяли ее на народный хор, а она хотела на академический. Но обещали перевести, если будут хорошие результаты на экзаменах. Так все и получилось. У нее есть сын и дочь. Дочь учится на третьем курсе юридического вуза.
Младшая, Лена – тоже медик, её сейчас просят работать начальником, но она отказывается – считает, что врач должен лечить, а не заниматься бумагами. У нее высшая категория, хотя она подавала документы на первую.
Старшая внучка Наталья Леонова переняла все таланты моих родственников. Мой брат очень хорошо рисовал и резал по дереву. У его детей на кроватках были вырезаны сюжеты сказок А. Пушкина. Внучка оформляет книги, выполняет заказы, но образования у неё нет – она самоучка. Моя дочь решила ей сделать подарок ко дню рождения и отправилась в дорогой художественный салон. До этого она спросила у знакомого художника, чем можно порадовать иллюстратора. То, что он ей назвал, она с видом знатока и сказала в салоне. Продавец спросил: а кому вы все это берете? Она говорит: да дочь моя рисует. А какое у нее имя? – Verdibona. Он всё с прилавка убрал, и предложил ей хороший импортный товар по той же цене.
Внук с отличием окончил университет кино, радио и телевидения и работает в Подмосковье. В его городе есть архив художественных фильмов.
Еще у меня трое правнуков (13 лет, 2 года и 1 год).